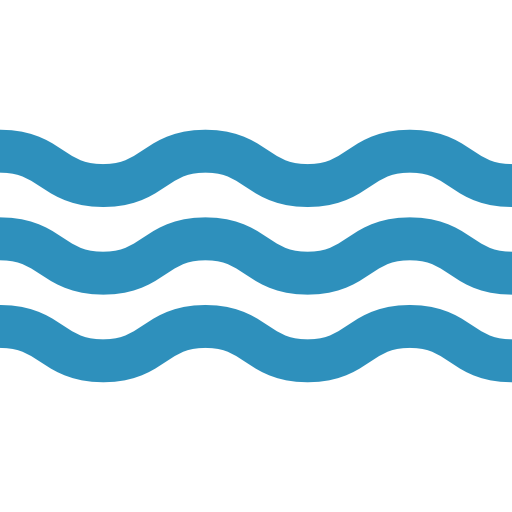Как быть, если тебе не верят, когда ты рассказываешь о разрушениях и зверствах, свидетелем которых стал лично? Что чувствует человек, на глазах которого вражеский лётчик расстреливает мирные дома, только для того, чтобы «израсходовать снаряды»? Как под обстрелами в оккупации приходилось выживать пожилым людям? И каково это — потерять собственный дом со всем, что в нём было?
Об этом мы говорим с диаконом Андреем Глущенко. Откровенно — в проекте #ДавайтеОбсуждать.

Соседи только что прислали несколько фото и видео. Мой дом в Ирпене, где я с семьёй жил до 5 марта, вчера-позавчера сгорел. Целиком. Со всем моим имуществом.
Пожалуйста, без комментариев».
(Фото с Facebook-страницы о. Андрея Глущенко)
— Начало войны застало мою семью дома, в Ирпене. Рано утром 24 февраля жена разбудила меня: «Война началась!» Первые минуты я не мог поверить, но зашёл в интернет, посмотрел новости…
Нельзя сказать, что я был шокирован, так как речь о возможной войне шла все последние месяцы. Скорее даже, с первого дня мысль о том, что Россия таки начала войну против Украины, вызывала (как обратную внутреннюю реакцию) спокойствие и рассудительность, желание смотреть на вещи настолько трезво, насколько это возможно.
— Каким вы видели начало войны?
— Войну мы, скорее, не увидели, а услышали — и практически сразу. В первый же день начались бои за гостомельский аэродром Антонов. От моего дома в Ирпене до административной границы с Гостомелем меньше километра, а до аэродрома — километров шесть-семь.
В первый же день россияне попытались захватить его с помощью вертолётного десанта, чтобы потом посадить там грузовые самолёты из Пскова с военной техникой. Если бы это им удалось, максимум через полчаса эта техника была бы уже в Киеве. Однако нашим войскам удалось уничтожить российский десант практически сразу с помощью танков и артиллерии.
Война дала о себе знать громкими взрывами всего в нескольких километрах от дома в первый же день, в первые же часы. И если я жил на первом этаже, то соседи с девятого видели бои за гостомельский аэродром и через несколько дней за гостомельский мост, что от нас в двух километрах, практически как на ладони.
— У вас в Буче живёт мама. Переживали за неё?
— Конечно. Моя мама — инвалид, незадолго до начала войны перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. Но заразилась в больнице от соседки по палате коронавирусом и поэтому была отправлена врачами домой — чтобы не заражать всех остальных в отделении.
В первый же день войны мы с женой поехали на автомобиле её проведать. Контакт с ней нам ничем не грозил, так как наша семья уже раз или два болела коронавирусом, а потом вакцинировалась. Что мы увидели, когда ехали на машине, — это огромную колонну автомобилей на Варшавском шоссе, которое соединяет Гостомель и Ирпень с Бучей. Колонну беженцев, которая из Киева двигалась на северо-запад — на Западную Украину или далее.
Проведав маму, мы вернулись домой и, проезжая мимо блокпоста недалеко от нашего дома, узнали, что тероборона больше не будет выпускать автомобили из нашей части Ирпеня в Бучу. Чтобы поддерживать контакт с мамой, мы решили купить велосипед в магазине у нашего дома. Как оказалось — совершенно напрасно.
— Почему?
— Дом в Ирпене, где я жил, находится в особом месте. Точнее, в месте, которое стало особым. Это район Ирпеня, который называется СМУ, а если ещё точнее, то перекрёсток трёх улиц — Севериновской, Гостомельского шоссе и Десятой линии. Именно это место Ирпеня пострадало больше всего. Именно туда сейчас и приезжают различные иностранные делегации посмотреть на разрушения в городе.
В радиусе нескольких сот метров от этого перекрёстка не осталось практически ни одного здания, которое бы не пострадало. И если и есть там несколько многоэтажек, которые отделались всего несколькими «прилётами», то дома на самом перекрёстке и в непосредственной близости от него, как многоэтажки, так и частные, были превращены практически в руины, не подлежащие восстановлению в принципе.

115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены,
187 частично повреждены. Это 71% территории города
Рядом с нашим перекрёстком находилось два военных объекта — госпиталь и блокпост теробороны. Когда на второй день войны продолжились бои за аэродром, а мы решили, что или я, или моя жена съездим в Бучу к маме на специально для этого купленном велосипеде, бойцы теробороны нас не пропустили: «Ты что, хочешь пулю словить?!» Так что велосипед, приобретённый за большую сумму денег в первый же день войны для поездок к маме, так и остался стоять в коридоре моей квартиры, а потом сгорел вместе с ней, так и не будучи ни разу использованным. Магазин, в котором мы его покупали, находился, кстати, именно на том же самом нашем перекрёстке и был также целиком уничтожен.
— Сколько времени вы находились под обстрелами?
— Немного, всего лишь десять дней…
По сравнению с другими украинскими семьями в Мариуполе, Харькове, Северодонецке моя семья, я бы сказал, войны почти и не видела.
С первого же дня мы слышали бои за аэродром в нескольких километрах от нас, а вскоре услышали наступление российских войск с севера на Киев. Канонада приближалась с каждым днём. Если в первое время бывали передышки на несколько часов, то в те дни, когда мы решили уехать, взрывы не прекращались даже на полчаса.
Дети проводили большую часть времени в бомбоубежище — укреплённом подвале нашего дома. Мы с женой поднимались в квартиру приготовить еду, даже ночевали там, но старались не отходить от дома более чем на триста метров. Мало ли что.
Российские танки наступали на Киев с севера и северо-запада, по взрывам мы могли определять, где они сейчас находятся. «Это Бородянка». «А это уже примерно Немешаево или Ворзель». На четвёртый день войны российские танки были уже в Буче и попытались прорваться оттуда в Ирпень. Был жаркий бой на бучанской Вокзальной улице, их остановили непосредственно при входе в Ирпень, в результате боя улица превратилась в страшную картину. Уничтоженные российские танки, обгоревшие трупы в них и уничтоженные украинские дома. Эту улицу я хорошо знаю с детства, так как она прямо соединяет Бучу, откуда родом моя мама, с Ирпенём.
Все эти дни начала войны жильцы моего дома — а большинство не уехало сразу — слышали приближение российских войск. Научились различать залпы разных видов оружия — среди соседей были бывшие военные, они провели подробный «инструктаж». В общем, всё было достаточно просто. «Вот, русские стреляют с севера, расстояние примерно столько-то километров». «Вот, наши отвечают с юга». А мы — ровно посередине между ними, разве что первое расстояние всё сокращается. Но помню, что не было никакого страха, разве что у детей.
Через несколько дней после начала войны рано утром проснулись от взрыва совсем рядом у дома, метрах в 200-300. Российский самолёт, пролетая на небольшой высоте, выстрелил ракетами по блокпосту или по госпиталю — они рядом, но промахнулся и попал в жилой пятиэтажный дом, снёс несколько этажей, разрушил несколько квартир. Погибли люди. Кадры об этом доме вскоре были во всех новостях, но я ходил смотреть на эти разрушения вживую.
Другая ракета также попала в соседний от нас дом, метрах в 200, он был частный, небольшой, часть дома была разрушена, но, слава Богу, там обошлось без жертв.
Именно тогда я впервые ощутил необычное и страшное для самого себя чувство — захлёстывающей ненависти. Ненависти, которая бьёт ключом, и ты не можешь ничего с этим сделать, обуздать её.
Чувство спустя некоторое время гаснет, но только лишь до следующего взрыва рядом с тобой. Когда ты не читаешь о войне, не смотришь фильм или репортаж, а соприкасаешься вплотную, когда гибнут мирные жители того дома, мимо которого ты ходишь едва ли не каждый день, гибнут оттого, что вражеский лётчик промахнулся…
Впрочем, мой сосед из бывших военных дал и другое объяснение. Штурмовикам запрещено возвращаться на базу с боекомплектом. Пилот обязан израсходовать все ракеты перед тем, как вернуться на аэродром. Как мне объяснили, пилот мог и не стрелять по блокпосту, а просто выстрелить ракетами наугад. По жилым домам.
Помню, в те дни, первые дни войны, это казалось каким-то неправдоподобным зверством. «Как это? Просто так стрелять по домам, где находятся мирные граждане? Такого не может быть!» Увы, последующие события показали, что вполне-таки может. Какие-то установки в самом себе пришлось уже тогда пересмотреть.
— А как ваша мама? Она пережила оккупацию? Что рассказывала? Сейчас с ней всё благополучно?
— С моей мамой получилась очень тяжёлая ситуация. Непосредственно перед войной ей исполнилось семьдесят. Она жила в Лесной Буче в старом доме, постройки еще начала ХХ века — дом моего прадедушки. Помогать мы ей не могли, так как приехать или прийти из Ирпеня в Лесную Бучу оказалось невозможно. Обслуживать себя она не могла, будучи прикованной к постели. Ей помогал живущий рядом её брат, мой дядя, а также, изредка, живущий в другом районе Бучи зять, муж моей сестры, священник. Однако после оккупации Бучи российскими войсками он тоже уже не смог приходить. Как рассказывали знакомые бучанцы, российские солдаты запросто стреляли по любому мужчине, идущему по улице. Мирным жителям, и прежде всего мужчинам, приходилось сидеть дома. Без газа, отопления, без электричества.
Дядя взял старую печку-буржуйку и топил её, чтобы мама не замёрзла, а также готовил какую-то еду из тех запасов, что оставались в их домах. Всё, что было съедобным. Связь мы держали благодаря тому, что у дяди был пауэрбанк, заряжающийся от солнечной батареи.
Мама более месяца провела в кровати, иногда с большим трудом могла подняться, страшно похудела. Русские один раз зашли к ней в дом, обыскали его, увидели, что там лишь женщина-инвалид, и ушли. Мы обращались в различные волонтёрские службы, но слышали только одно: никто из волонтёров в Лесную Бучу ни за какие деньги не поедет — их там просто убьют.
Каждый раз, когда нам удавалось с ней связаться — когда день был солнечным и батарея работала, — этот разговор мы воспринимали как последний. Безо всяких преувеличений. Прощаясь в конце разговора, мы понимали, что это может быть прощание навсегда и мы её больше не услышим. Мои дочери, произнося «До свидания, бабушка», нередко плакали.
Когда же российские войска увидели, что не смогут взять Киев, и оставили Киевскую область, нашёлся волонтёр, который перевёз мою маму в Киев к моей сестре. Мама провела больше месяца в оккупации, в невыносимых условиях, после тяжёлой операции, после острой формы ковида и высокой температуры в течение нескольких дней, вообще без лекарств и почти без еды, будучи уже много лет инвалидом по неврологии. И то, что она выжила, действительно чудо Божие.
Сейчас она в Киеве, понемногу идёт на поправку, уже может ходить с ходунками. Правда, состояние её здоровья всё равно оставляет желать лучшего. Мы проведывали её недавно, приезжая из Черновцов. Она живёт с моей сестрой; действительно, сильно похудела.
Страшно подумать, что множество украинских стариков, оказавшихся в подобной ситуации, не пережили её. А люди — если их вообще после такого можно назвать людьми, — пришедшие на нашу землю как якобы освободители, безучастно смотрели на их мучительную смерть, не давая возможности родственникам оказать какую-либо помощь. Не то чтобы эвакуировать, нет. Даже оказать минимальную медицинскую помощь или накормить.
Опыт моей мамы тоже заставил меня что-то пересмотреть внутри себя — так же, как и вид взорванного в первые дни войны соседского дома.
— Вы уехали на Западную Украину? Где жили? Какие условия у вас там были?
— Если честно, уезжать мы в первые дни войны никак не планировали. Надеялись на лучшее. Представить, что наш район Ирпеня, где я прожил много лет, будет просто сметён с лица земли? Превратится спустя месяц в руины, куда, как в музей, будут привозить иностранные делегации?..
Однако в первый или второй день войны, когда российские войска ещё даже не подошли к Буче, а пытались взять десантом Гостомель, одна родственница моей жены, живущая в Буче и имеющая какие-то знакомства среди военных, сказала ей: «Наташа! Уезжайте! Бучи и Ирпеня не останется!» Это звучало дико. В то время на Бучу и Ирпень не упало ещё ни одного снаряда. Это были два цветущих города. Но с каждым днём жителей становилось всё меньше и меньше.
День на девятый, когда русские уже заняли Бучу и несколько раз пытались прорваться в Ирпень, мы чисто случайно узнали, что одна ирпенская протестантская церковь, находящаяся с другой стороны города, ежедневно организует «зелёные коридоры». В те дни снаряды уже взрывались совсем рядом с домом, так что от взрывов пол буквально шатался под ногами. У младшей дочери во время таких обстрелов начиналась непреодолимая паника, слёзы.
Мы позвонили вечером в эту протестантскую церковь, но нам ответили, что «завтра коридора, скорее всего, не будет». Услышав это, мы разве что заготовили папку с основными документами. Как на следующий день утром раздался от них звонок: «Колонна уже выехала, догоняйте!» На сборы у нас было минут 15, ибо место отправки — это диаметрально противоположная часть города. Мы насобирали за эти минуты два чемодана вещей — для меня, жены и дочерей, 22 и 16 лет, и на машине бросились к месту эвакуации.
По дороге мы увидели вымерший город. Масштабных разрушений ещё не было — они появились преимущественно в середине и особенно в конце марта, когда россияне оставляли область, а перед тем вдоволь настрелялись по Ирпеню и особенно по району СМУ из Бучи.

(Фото с Facebook-страницы о. Андрея Глущенко)
Приехав к церкви, мы получили два листика: «Эвакуация» и «Дети», которые прикрепили на стекла машины, и бросились догонять колонну. К вечеру добрались до Фастова, где другая протестантская община давала беженцам питание и ночлег. И по дороге решили определиться с конечной точкой. Позвонили одной нашей знакомой в Черновцы, которая раньше жила в Ирпене, а в последнее время давала моим дочерям уроки английского по телефону. Она согласилась нас принять в своей второй, старой и пустующей квартире. Но когда поздно вечером мы добрались до Черновцов и затем переночевали там, оказалось, что в квартире, которая когда-то была затоплена соседом сверху и стояла без ремонта, сильнейшая сырость. Я проснулся, не будучи в состоянии дышать — кроме прочих болезней у меня астма.
Целый ряд людей, которых мы не знали, согласился помочь нам, и в итоге нас совершенно бесплатно принял к себе домой отец Вячеслав — архидиакон кафедрального собора Черновицкой епархии. Несмотря на то, что у него самого многодетная семья, он принял нас так, как, наверное, не принимают и самых близких родственников. За что мы глубоко благодарны ему, матушке Вере и их детям.
Сейчас мы пока находимся всё ещё у них дома, уже три месяца, но вынуждены искать теперь другие варианты, так как осенью к ним должны приехать жить их родственники из других регионов Украины, а моя семья занимает в их доме целых две комнаты.
Условия, в которых оказываются другие переселенцы, здесь сейчас иногда оставляют желать лучшего. Бывает, две семьи, каждая численностью по три-четыре человека, снимают вместе одну двухкомнатную квартиру. То есть семь или восемь человек живут уже более трёх месяцев вместе в квартире 40 квадратных метров. Иные же размещаются в общежитиях учебных заведений, где общие условия вовсе не подходят для семейного проживания.
— Какое отношение у местных?
— Буковина — очень гостеприимный край. Сейчас здесь очень много переселенцев, но я не замечал никогда никакого раздражения ни у кого из местных жителей по этому поводу. Хотя война практически не затронула этот край и жители не знают, что такое взорванные кварталы, вымершие города-призраки, длительное отсутствие электричества, газа, связи, но тем не менее всячески стараются помочь. Не посочувствовать, а оказать реальную помощь.
Целые гуманитарные центры здесь помогали найти и подобрать нам бесплатную одежду секонд-хенд, которую принесли местные жители. Для меня это было большой проблемой, так как я приехал с минимумом одежды, причём зимней, но с двумя метрами роста и с сорок седьмым размером обуви. На Соборной площади ежедневно раздают бесплатные обеды. Некоторые кафе предлагали переселенцам бесплатные бутерброды и чай — нужно было только показать документ с регистрацией в регионе, где были или идут военные действия.
— Ваш дом разрушен из-за войны. Как это произошло?
— В середине двадцатых чисел марта мне позвонила соседка и сказала, что наша девятиэтажка в Ирпене горит. Точнее, горят верхние этажи. В тот же день в новостях я прочитал сообщение от мэра Ирпеня, что российские войска применили против нашего города фосфорные боеприпасы. Этот вид оружия вызывает в первую очередь масштабные пожары.
Вскоре в вайбере жильцы нашего дома опубликовали фотографии и видео, как дом горит. Но съёмка проводилась с той стороны, которая была «тыльной» по отношению к Буче, откуда вёлся обстрел. Причём было чётко видно по снимкам, что горел он не совсем обычно, а именно — сначала сгорали верхние этажи, затем нижние. Очевидно, так получилось, потому что в дом действительно попали фосфорные заряды.
Через несколько дней российские войска начали уходить из Киевской области, и некоторые жильцы приехали посмотреть на дом. Сгорел он практически полностью, все девять этажей, пожар не затронул только пару комнат во всём доме. Местами провалились межэтажные перекрытия, в большинстве квартир обрушились стены-перегородки между комнатами и квартирами. Вследствие также попадания мин образовались сквозные трещины на наружных стенах высотою все девять этажей.
В мае я сам приехал в Ирпень, чтобы подать необходимые документы, для чего нужно было сделать самому фото своей квартиры. Зрелище это было ужасное. Сгорело полностью всё, вся мебель, все вещи. От трех шкафов книг — а в них книги стояли в два и даже в три ряда, не осталось практически ничего, только горстка белого пепла. Это и книги, доставшиеся мне от отца, и все те книги, которые я приобретал в течение всей своей жизни. Не осталось ни одной…
Сгорели полностью все вещи, предметы, так или иначе связывавшие меня со всей моей прошлой жизнью, с детством, с юношескими годами. Сгорел компьютер, на котором было три жёстких диска — точнее, два диска, один — приобретённый несколько лет назад, другой — приобретённый в конце девяностых, и вот на нём ещё — копия третьего диска, всего на 40 мегабайт, с моего самого первого компьютера, приобретённого при окончании школы лет тридцать назад. Таким образом, сгорели все материалы за всю мою предыдущую жизнь, переписки с разными людьми, документы, фотографии…
Многое, что материально напоминало мне о людях, которых я никогда уже не увижу, исчезло.
Услышать, что «дом твой сгорел», и увидеть это своими глазами не одно и то же. Это примерно как приехать на похороны. Одно дело — услышать или прочитать о смерти твоего близкого друга или родственника, но совсем другое — увидеть его тело в гробу, увидеть своими глазами.
И я понял, что моя жизнь разделилась. В ней прошёл водораздел, выстроилась стена: «до» и «после». Я не смог находиться внутри развалин своей квартиры более часа. Хотя жена надеялась найти хоть какие-нибудь уцелевшие вещи, помимо нескольких тарелок с выгоревшим рисунком, это оказалось невозможным. Температура пожара была настолько высокой, что многие металлические вещи просто расплавились.
С другой стороны, побывав там и зная, что происходит сейчас в регионах, где идут активные боевые действия, на слова «главное, что мы живы» смотришь теперь не как на общую фразу, какую-то банальность.
— Что вы будете делать дальше?
— Временно я пока ещё нахожусь в Черновцах, где также служу в одном из храмов, но никаких определённых планов на будущее не имею. На всё воля Божия.
Возможностей и средств, чтобы отстроиться или приобрести жильё для семьи, у меня нет. Кроме того, я инвалид по неврологии, с неприятным тяжёлым заболеванием, так что даже имея средства, я вряд ли нашёл бы внутренние силы для постройки дома. С другой стороны, когда о моей ситуации узнал Блаженнейший Митрополит Онуфрий, а также митрополит Антоний и архиепископ Иона, они предоставили мне определённую денежную помощь, достаточную для того, чтобы моей семье можно было продержаться на плаву некоторое время. Также на официальном сайте УПЦ были опубликованы реквизиты мои, а также другого священника нашего благочиния, отца Владимира, который тоже в результате российских обстрелов лишился дома. И люди из совершенно разных стран оказали нам посильную помощь, за что всем им мы глубоко благодарны.
— У вас есть родственники или знакомые в РФ? Вы пытались донести правду о происходящем? Как быть, если тебе не верят, противодействовать предубеждённости?
— Родственников в России у меня нет, но есть немало знакомых и друзей, в первую очередь — друзей в социальных сетях. Практически все они адекватно негативно относятся к путинской пропаганде и трезво смотрят на происходящее. С теми же пользователями соцсетей, кто верит в эту пропаганду, я не общаюсь — это пустая трата сил и времени. Ибо здесь: «Иди и смотри».
С другой стороны, в первое время, оказавшись на Буковине, я действительно встречал людей, отказывавшихся верить в масштабные разрушения. Но это были не жертвы пропаганды «вывсеврёте», а люди, наивно желающие верить в природную доброту каждого человека, отказывающиеся принимать, что в наши дни и в нашей стране возможны такие преступления, причём совершаемые народом, который сам провозглашает себя при этом «братским» по отношению к нам.
И я встречал людей, отказывавшихся верить в масштабные преступления и зверства российских военных. И когда в разговорах с ними речь заходила о том, что фотографии в украинских СМИ якобы какие-то «неправдоподобные», постановочные, отредактированные, я просто доставал из кармана смартфон. И показывал:
«Смотрите, вот Ирпень и Буча, два моих родных города (наряду с Киевом). Я жил в них ещё только месяц назад. Я совсем недавно ходил по этим улицам. И вот какими они были, а вот какими стали. Вот каким был мой дом и соседние с ним, а вот что они представляют из себя сейчас».
А также передавал рассказы своих родственников и знакомых, жителей Бучи, непосредственных очевидцев, о том, что вытворяли российские военные в их городе и как они спасались. Обычно человек замолкал, так как не знал, что возразить…
На заглавном фото публикации — дом отца Андрея по состоянию на 15 апреля 2022 года. «Вон детская площадка справа, с горкой и песочницей; мой балкон (лоджия) самый правый на первом этаже, под ним серый погреб (где на фото символ @), который мой покойный тесть для нас сделал при покупке квартиры. Там несколько ящиков картошки оставалось. Испеклась, наверное…»