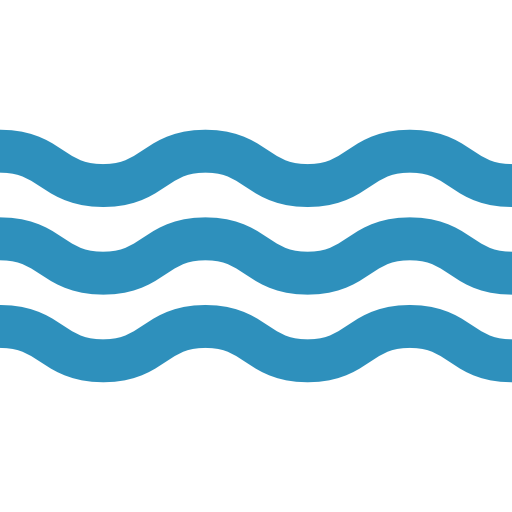Мы продолжаем рассказывать о тех, кого лично знаем. Мы хотим свидетельствовать, что Церковь — это живые неординарные люди, которые пережили опыт встречи с Богом и понимают, почему стоит после этого изменить свою жизнь.
Наш сегодняшний рассказ — не о той войне, что врывается в жизнь страны, входя в каждый дом, а о другой, никому не заметной, которую приходится вести каждый день отдельно взятой семье и отдельно взятому человеку. Таких историй настолько много, а ситуации бывают такими трагическими, что не о каждой можно рассказать. Но мы верим, что, разделяя с ближними их боль, мы хоть немного можем облегчить их ношу.
Сегодняшний рассказ о Вале. Имя её изменено, фамилию тоже не указываем. С первых строк вы сами поймёте, почему.
Эта статья также есть на украинском языке: https://dialogtut.online/taki-lyudy-mozhut-teroryzuvaty-ridnyh-ale-sebe-zahystyty-vony-ne-v-zmozi/
Мы отдали сына в самый лучший интернат
— Мы с вами знакомы давно, вы последовательно выступаете против того, чтобы в Украине расформировывали сеть учреждений, в которых содержатся люди с хроническими психическими расстройствами. Откуда у вас опыт взаимодействия с психоневрологическими интернатами?
— Мне пришлось отдать туда сына, потому что… Знаете, Юля, я не знаю, кто там против чего выступает, но интернаты тоже разные есть. Мы отдали сына в самый лучший. Сделали для этого всё, что могли.
Я не работала, училась с ним сначала в школе, потом в институте. Когда у него было плохое настроение, а оно могло возникнуть в любой момент, он на нас бросался. Получается, я всё время должна была находиться дома и охранять от него девочек, чтобы он ничего плохого с ними не сделал. А когда он подрос, где-то лет с пятнадцати-шестнадцати, иногда приходилось и мужу звонить. Мы от сына закрывались, когда он буянил. И причём это всё на препаратах.
Психиатры назначали и меняли препараты и всё время меня воодушевляли, что ещё немного, и он это перерастёт.
— У вас трое детей?
— Да, две дочери и сын. Сын старший.
— Как его заболевание впервые проявилось?
— У меня были трудные роды. Он родился очень беспокойным, немножко отставал в развитии. Мы пошли к невропатологу, она назначила лечение, ему становилось легче.
Наш участковый педиатр меня убедила, что ходит буквально эпидемия дифтерии, и нужно делать прививки. После первой АКДС у сына подскочила температура до 39. После второй он попал из больницы в реанимацию, и с тех пор до двух с половиной лет вообще не спал.
Как раз ему было два с половиной года, когда мы начали ходить в церковь. Может, ещё с этим связано улучшение, а может, действительно, перерос. Более-менее начал спать, но всё равно был очень вредный. Чуть что не так, кричал, убегал. А потом наша бабушка, моя свекровь, сама доктор, заметила, что всё-таки это не СДВГ какой-нибудь, а что-то более серьёзное. Было ему лет пять, когда она отвела его к своей сокурснице, и там ему уже поставили психиатрический диагноз, назначили лекарства.
Понимаете, сын отставал в интеллектуальном развитии, но очень неравномерно. И при этом у него очень снижено критическое мышление. С одной стороны, он, например, помнит массу всяких исторических событий, но с другой… Каждый раз я уговариваю его почистить зубы, а он меня спрашивает: «Если я буду чистить зубы, я стану здоровым?»
Энцефалограмма показывает, что у него в мозгу спайки в разных местах, поэтому интеллект непропорционально развит. Самая главная трудность — он себя не может контролировать. Когда меняется погода, или что-то идёт не по его желаниям, он совершает всякие антисоциальные поступки. Они действительно опасны.
Когда нам впервые назначили лечение, оно было более мягким, и до определённой степени помогало. Сына перевели на домашнее обучение, я всё время была дома и делала с ним все уроки. Потом он пошёл учиться в школу. На какой-то момент ему стало гораздо лучше, но с 16 лет многие психические заболевания обостряются или впервые проявляются, например, шизофрения. И ему становилось всё хуже, и хуже, и хуже.
В конечном итоге, когда он был уже на последнем курсе института, то почти всё время проводил в Павловской больнице (Киевская городская психиатрическая больница №1 имени И.П.Павлова. — Ред.). Его пролечат, выпишут, он что-то вытворит опасное, приезжает скорая, снова его забирает. Два раза убегал из дому, мы его с полицией искали. Начал выбрасывать из окон предметы, а у нас тринадцатый этаж, внизу играли маленькие дети. Дважды было такое, что двухлетнего ребёнка чуть не убил.
В «Павловке» он лежал в очень хорошем отделении, самом лучшем. Заведующая мне всегда говорила, что интернаты — это кладбища погибших рассудков, мол, мы так изменим лечение, и так… В конечном итоге она сказала: «Я смотрю, что за последние полгода к его основному заболеванию присоединилась шизофрения. Возникают бредовые состояния, когда он абсолютно не отдаёт себе отчёт в том, что делает. В любой момент может причинить вред себе, вам, вашим девочкам и любому человеку на улице».
«К сожалению, — сказала она, — нужно отдать его в интернат».
Это было в 2015 году. Сыну как раз исполнилось 22 года. Мы сделали на тот момент уже всё, что могли. Ещё год с лишним потребовался на оформление.
У меня было чувство, что я его заживо похоронила
Как раз в июне 2016 года вышло постановление, что госпитализировать в ПНИ можно только при личном согласии человека. Ну как они это себе представляют? Человек не отдаёт себе отчёт, в каком он состоянии находится. Как можно взять с него такое согласие?
А потом пошла волна, что нужно закрывать психоневрологические интернаты, реформировать всю эту систему учреждений. Я и другие опекуны из нашего ПНИ ходили на разные конференции, участвовали в обсуждениях. Нам показывали душещипательные фильмы, как в Нидерландах, например, занимаются такими людьми. Но, во-первых, на экране показывали людей неагрессивных. У меня ребёнок агрессивный. А во-вторых, интернаты, как я уже сказала, бывают разные.
Это неправда, что все интернаты или все отделения больницы Павлова в Киеве — какая-то тюрьма или что-то в этом роде. В нашем интернате ребята общаются друг с другом, живут в красивых домиках по двое в палате, ходят друг к другу в гости, что-то обсуждают, чем-то своим делятся. У них свои социальные связи, библиотека, клуб. У них прекрасная культработник, постоянно с пациентами занимается. Есть профессиональный соцработник. Недавно к пациентам приезжали артисты из Национальной оперы.
Было бы хорошо, если бы можно было выделять больше средств, чтобы в ПНИ работало больше людей. Сейчас там сотрудников в 2-3 раза меньше, чем подопечных. Но к пациентам там очень гуманно относятся.
Дома сын периодически разбивал окна, крушил мебель. Кричал по ночам. В любой момент мог проснуться и кричать, колотить в стену. Хорошо, что у нас три комнаты, и у него была своя, но всё равно.
Когда началось половое созревание, возникли новые проблемы. Дочки постоянно ходили в синяках. Сын не отдавал себе отчёт в том, что он делает. Ему просто хотелось человеческой ласки, а вы представьте, как на это реагируют девочки на четыре года и на шесть с половиной лет младше его. Один раз я их оставила самих, мне нужно было маму из больницы забрать. Он на них напал, начал тягать за волосы. Они убежали, куда-то от него в подъезде прятались.
И всё же… Когда-то я смотрела телепередачу про интернат, и там одна женщина сказала, что, когда отдавала своего сына в ПНИ, у неё было чувство, будто она его похоронила. Я ощущала то же самое — что я заживо его похоронила.
Полгода после этого ничем не занималась, только ездила навещала сына в ПНИ и сидела в интернете. Иногда есть готовила, и всё. Из этого состояния меня вытащил муж. Сказал: «Ты же по образованию психолог, неужели у тебя нет знакомого психолога, к которому мы можем пойти?» Мы вдвоём с ним обратились к хорошему специалисту, и как-то я начала из этого выкарабкиваться.
И тут вдруг в наш интернат приходят две девочки из департамента омбудсмена и говорят пациентам: «Ребята, вас скоро выпустят, в 2023 году вы уже здесь жить не будете…»
Так рьяно, как я раньше пыталась сына социализировать, поверив всем этим психиатрам, теперь я бросилась бороться, чтобы интернаты не закрыли.
— Что вы имеете в виду, говоря «поверив всем этим психиатрам»?
— Основных, можно так сказать, психиатров, у сына было три, и все очень хорошие. Но вот та, которая вела его, когда он ещё учился в школе, сказала мне, что он всё это перерастёт.
С одной стороны, тогда это дало мне силы много чего терпеть и бороться. Вся наша семья работала над тем, чтобы он социализировался. С другой стороны, когда я поняла, что это был обман с благими намерениями… Не знаю, как передать то чувство, когда ты всю жизнь за что-то боролся, а потом оказывается, что изначально было понятно, что всё зря.
Хотя дети говорят, что не зря, и все мне говорят, что не зря. Говорят, что я сделала для него всё, что могла. И это, кстати, правда. Я до сих пор не могу расстаться с мыслью, что это я виновата, что моя мама умерла в возрасте 85 лет, или что я дочкам чего-то не додала. Но на счёт сына у меня никогда не было чувства вины, потому что я ради его лечения просто костьми легла.
Я понимаю, что есть ужасные, бедные интернаты, возможно, бывают какие-то злоупотребления. И тем более они могут случаться там, где люди зависят от других. Но в интернатах люди в первую очередь зависимы от своей болезни.
Когда я ездила на конференции, там часто высказывали мысль, что пациенты ПНИ — это педагогически запущенные дети, которым родственники всю жизнь недодавали, а потом, чтобы от них избавиться, отдали в интернаты. Я на связи с другими опекунами, которые отдают детей (хотя это уже взрослые мужчины) в наш интернат. Мы созваниваемся, общаемся и, как правило, это люди, которые тоже выложились для своих родных.
Нас, опекунов, дети или родственники которых содержатся в нашем ПНИ, порядка 70-80 человек. И я могу сказать, что все они добросовестные люди. Бывает, мама до последнего ухаживала за сыном, потом умерла, и опекунством занимаются либо тёти, либо племянники, либо сёстры. Они регулярно проведывают подопечных, хотя среди них встречаются действительно опасные.
Так, в закрытом отделении нашего ПНИ живёт человек, который убил свою сестру, разрезал на кусочки, вынес и закопал.
У меня была знакомая, с которой мы ходили в больницу Павлова на курсы для родственников психически больных людей. Эта женщина работала, а с её психически больным сыном оставалась её мама. Кончилось тем, что парень эту маму, свою родную бабушку, в состоянии помрачения просто убил. Таких пациентов, как правило, помещают в ПНИ в Глевахе, но несколько человек есть и у нас на закрытом отделении.
Мои дочери выросли, но до сих пор боятся мужчин
— Как ваши дочки реагировали на болезнь брата?
— Они его боялись.
Как вам сказать, честно говоря, они до сих пор боятся мужчин. На девочках это действительно очень сказалось. Получается такой сбой в восприятии — когда уже приучаешься жалеть человека, даже если он агрессивен.
А ведь на самом деле эта агрессивность никак не помогает человеку выживать в реальном мире. Самая радикальная реформа ПНИ была проведена в Италии. Там просто закрыли все эти учреждения, и люди оказались на улице, где они в буквальном смысле умирали. Или же попадали в тюрьмы, а в тюрьмах они — лёгкая добыча сокамерников, потому что, опять-таки, не могут себя защитить.
В основном пациенты ПНИ это люди, которые не понимают, кто им враг, кто им друг. Они могут терроризировать родственников, каких-то прохожих и окружающих, но себя защитить они не могут. Не могут уберечься от мошенников, которые оставляют их без жилья и средств, не могут устроиться на работу, никто их там терпеть не будет, не могут на себя заработать. Даже если им платят какие-то пособия, они не понимают, как распоряжаться этими деньгами.
Говорят, что в Украине кто-то кому-то дал взятку, человека лишили жилья, и он оказался в интернате. Возможно, где-то такие случаи и есть. Но всё-таки большинство из них — плод больной фантазии человека, который живёт в интернате и пишет все эти письма в «Хельсинскую спилку» и так далее.
Когда мы всё это с нашим сыном проходили, нам пришлось целый год собирать документы. Сначала оформляешь инвалидность, потом недееспособность. Это решают три независимых друг от друга комиссии. Раз в два года статус недееспособности необходимо подтверждать. Проходишь судмедэкспертизу в совершенно закрытом учреждении. Из социальной службы приходят проверяют, всё ли в порядке у человека с жильём. Государство контролирует все операции с его недвижимостью.
То есть, с одной стороны, это контролируется опекуном, с другой стороны, государством, чтобы у человека ничего не забрали. Не знаю, за какие-то большие взятки, может, кто-то продал квартиру и половину стоимости отдал органам опеки, но я с таким не сталкивалась ни разу в жизни.
Без желудка можно жить годами и десятилетиями
— Очень тяжело всё это слышать — через что вам всем пришлось пройти. Скажите, а после того, как сын стал жить в интернате, хоть немного получилось у вас, если можно так сказать, пожить для себя?
— Сначала, как я уже сказала, я на три сезона уехала в депрессию, потом боролась за то, чтоб интернаты не закрыли. Последнее доковидное собрание для опекунов нашего ПНИ, на котором я рассказывала о предстоящей реформе, уже проводила с сильными отёками на ногах. После этого в течение недели по скорой попала в больницу. У меня обнаружили рак, и дальше начались все эти химио- и иммунотерапии.
За полгода до полномасштабной войны мне удалили желудок и ещё два органа. Когда уже война началась, из-за спаек я не могла не только есть, но и пить.
Все дома готовились, что я умру. Когда россияне отошли от Киева, а Национальный институт рака ещё был закрыт, я позвонила своему профессору в последней надежде. Притом, что я ничего не ела, а жила только на капельницах, даже от внутривенного питания у меня была рвота. Профессор сказал, что мне нужна операция, но с таким весом вряд ли кто-то возьмётся её сделать. Весила я тогда 43 килограмма.
Первый раз, чтобы сделать такую операцию — удалить желудок и расположить кишечник, чтобы он хоть как-то работал, — нужно три хирурга. Одному из них я и позвонила.
Как раз первый день, как открыли институт рака. Доктор такой счастливый, что можно опять оперировать людей и спасать их. Согласился делать операцию, но взял с меня расписку, что я понимаю, что ещё пять килограмм на операции потеряю. Вот такой человек, считает, что до последнего нужно бороться.
Он думал, что у меня рецидив, а оказалось, острая кишечная непроходимость. Настолько сильные были спайки, что весь кишечник перекрутился, и еда не проходила. После этого сначала каждые десять дней, потом каждые две, три недели, а сейчас раз в месяц я езжу на специальную процедуру, глотаю шланг, которым делают гастроскопию, и мне раскручивают кишечник, все эти спайки. Какой-то чудо-доктор там работает, я уже так привыкла, что практически безболезненно всё протекает.
— Простите, а как можно жить без желудка?
— Можно жить, годами и даже десятилетиями. Тонкий кишечник пришивается к пищеводу. Это называется анастомоз. Со временем часть тонкого кишечника расширяется, и в том отделе, который специальным образом закручен, пища находится какое-то время, где на нее несколько часов воздействуют ферменты, которые нужно принимать вместе с едой. Я вкус пищи ощущаю и даже могу поесть с удовольствием, просто небольшую порцию.
Вот вы спросили, удалось ли мне пожить для себя. А знаете, я не хочу для себя жить. Я живу сейчас с мужем и с младшей дочкой. Старшая ушла добровольцем на фронт и подвергается постоянной опасности.
Я встаю, готовлю кушать. Мне дают поспать, сколько я хочу. С кем-то общаюсь. В основном, конечно, по интернету или по телефону. С сыном говорим, он по сто раз в день звонит. В принципе, насколько это возможно в моей ситуации, можно считать, что я счастлива.
Я молилась о своих детях, но с ними происходили страшные вещи
— И всё же, думаете ли вы о том, что ПНИ могут закрыть, и сын снова вернётся домой?
— Да, думаю, и честно говоря, не могу для себя как-то этот вопрос решить.
Если бы я его взяла домой сейчас, я бы умерла за сутки, потому что он буйный, чуть что не по его. Он требует каждую минуту внимания, кроме тех случаев, когда, допустим, ему днём захотелось поспать. При той зарплате, которая сейчас у мужа, может быть, мы могли бы снять какое-то отдельное жильё и нанять сиделку. Но у мужа слабое сердце, сколько он ещё сможет так работать…
Поэтому о том, что будет, если интернаты закроют, я, честно говоря, думаю с ужасом. И не только я.
Когда-то я не верила, что Бог нам поможет, что как-то всё сложится. Не верила в лучшее будущее. Сейчас я чудом дважды выжила, когда уже все приготовились, что я умру. И эти два случая изменили моё отношение.
После первой операции мне помогали все-все-все, от кого я даже не ожидала, и до копеечки впритык хватило на лечение. И во второй раз тоже. Поэтому теперь я думаю, что, действительно, Бог поможет, и что всё-таки сын не умрёт зимой где-то под забором. Теперь мне легче на это надеяться.
Когда только моя дочь ушла на войну, да ещё и в разведроту, я не спала до двух-трёх часов ночи, писала своему бедному духовнику сообщения, после которых он мне перезванивал. С одной стороны, я молилась за своих детей, но с ними происходили страшные вещи. С другой стороны, я сама была в страшных ситуациях, когда и физически, и психически ты уже на волосок от смерти, а сейчас это не так.
Мне трудно до конца поверить, что всё происходит по Промыслу Божьему. Я не верю, что человек убивает человека по Промыслу Божьему. Я знаю, что дети подвергаются насилию не по Промыслу Божьему, что есть злая воля людей, и её в этом мире очень много. С другой стороны, ты думаешь, что вот уже всё, но всё-таки Промысл Божий действует, и ты переходишь от «вот уже всё» к тому, что более-менее терпимо или даже благополучно. И я надеюсь, что и с моим сыном тоже что-то такое произойдёт.
Заглавное фото: Юрий Козырев