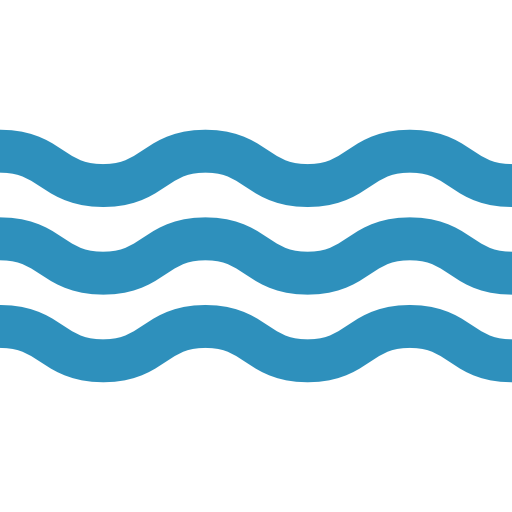«Важно оставить для истории какое-то послание, а будущее разберётся, что существенно, а что нет», — по сути, сейчас это стало главной идеей нашего проекта, и именно с этой мысли начался наш сегодняшний диалог.
Война оставляет свой след абсолютно на всём. И в Церкви тоже происходят изменения. Оценить и осмыслить их нам ещё предстоит. А пока…
У известного американского профессора истории Надежды КИЦЕНКО недавно вышла в англоязычном научном сборнике статья-исследование, как в условиях полномасштабной войны изменяются литургические формы в православных церквях Украины.
С целью поиска баланса между кардинальными реформами и полного отказа от любых перемен мы решили задать Надежде Борисовне несколько уточняющих вопросов — о том, кто, что и когда изменял в церковных богослужебных текстах и какой это имело результат.
Цей текст також є українською мовою

О собеседнице:
Надежда Борисовна Киценко родилась в Нью-Йорке в семье православнаго священника (уроженца Харькова). Получила образование в Гарвардском (ВА) и Колумбийском университетах (PhD). С 1994 года профессор истории в Государственном университете штата Нью-Йорк (Олбани). Автор статей и монографий по истории православия в России и Украине.
Первая монография об о. Иоанне Кронштадтском вышла на английском как A Prodigal Saint: Father John of Kronstadt and the Russian People (в переводе: https://www.nlobooks.ru/books/historia_rossica/1244/). Вторая — об истории исповеди и таинства покаяния в Российской империи: Good for the Souls. A History of Confession in the Russian Empire.
Последний научный сборник: Orthodoxy in Two Manifestations? The Conflict in Ukraine as Expression of a Fault Line in World Orthodoxy.
Если бы «как бы» не было войны
— Уважаемая госпожа профессор, в своей статье вы пишете, что литургическая форма отражает веру (lex orandi — lex credendi). Мы сейчас видим в Украине активный запрос на изменение литургической формы — чтобы как можно больше и дальше дистанцироваться от Москвы.
Скажите, были ли в истории Церкви случаи, когда получалось позитивно изменить форму, не утратив при этом суть? Потому что пока что создаётся впечатление, что вся суть вероятных изменений — убрать из церковной жизни всё, что хоть как-то связано с РПЦ, а дальше «война план покажет». С таким подходом есть угроза выплеснуть вместе с водой и ребёнка — например, тех святых, которые связаны с Россией, по причине их слишком тесной богослужебной привязки к «российскому отечеству».
— Начнём с того, что мне кажется немного странным ставить вопрос так, будто сейчас не идёт война. Имею в виду, что ещё с VII века православные литургические тексты начинают содержать прошения о победе над супостатом. (Мы можем с вами позже ещё вернуться к тому моменту, когда Крест стал символом не величайшей Жертвы, не искупления, не победы над врагом всего человечества, а победы над совершенно конкретным врагом, будь то Османская империя, Япония и так далее.)
То есть если бы не служба Воздвижению Честнаго и Животворящего Креста — не говорю уже о службах, написанных со времён Петра I, как, например, о Полтавской битве («Служба благодарственная о великой победе, содеянной под Полтавой», 1709 г. Текст службы атрибутируют архиепископу Феофилакту (Лопатинскому). — Прим.ред.) — тогда можно и должно было бы рассуждать иначе. А так выглядит совершенно естесственным, что нападение врага находит определённое выражение в литургической форме.
Но давайте я отвечу на ваш вопрос, как если бы не было войны и военного положения. Есть ли в истории Церкви случаи, когда получилось позитивно изменить форму, не утратив при этом суть.
На мой взгляд, самый замечательный пример — служба рождеству Иоанна Крестителя на церковнославянском языке, которую составили в царствование Петра I. Написал её, как мне кажется, архиепископ Феофилакт (Лопатинский), тот же украинец, который составил службу о Полтавской битве, хотя насчёт этого я не ручаюсь.
Что интересно, если вы откроете церковнославянскую «Минею» на Рождество Иоанна Крестителя, то увидите, что размещённый там византийский вариант этой службы посвящён исключительно Захарии. Читаешь и думаешь: казалось бы, Рождество Иоанна Крестителя, а в текстах один отец. Но, поскольку у Петра была дочь Елизавета, он заказал написать службу, в которой не только упоминается мать Иоанна Крестителя, которую тоже звали Елизавета, но вся служба почти без исключения посвящена ей.
Причём, это замечательная служба. Потому что в службе о Захарии очень много штампов и трафаретности, по содержанию она не самая интересная. Но служба с упоминанием Елисаветы действительно талантливо составлена. Например, для паремий на Всенощном бдении выбраны те отрывки из Ветхого Завета, где содержатся размышления о бесплодстве и что это обозначает. Служба совсем не политическая, хотя если очень глубоко копать, на девятой песне канона в третьем тропаре упоминается, что «дай Бог, чтобы и тезоименитая тебе была бы…», но кто остаётся в храме к девятой песне, кто прислушивается к тому, что звучит в тропаре.
Ещё одна литургическая перемена, когда получилось изменить форму, не утратив при этом суть, замечена у наших братьев-славян в Сербской Православной Церкви. В Сербии на многих литургиях «Верую» и «Отче наш» не поются, а читаются всеми, от малютки до епископа. И иногда «Блаженни» не хор исполняет, а владыка провозглашает посреди церкви. Когда недавно я услышала это в Герцеговине, у меня было ощущение, что мы сами находимся там на горе вместе со Спасителем и это Он нас учит, что «Блаженнии нищие духом»…
Хочется войти в пространство, связанное с вечностью, а не злободневностью
— Как, по-вашему, отказ от церковнославянского языка, чего добиваются некоторые ревнители, не будет ли полной капитуляцией перед тем, что Россия присвоит себе полное право на всё, что связано с историей Киевской Руси? Мы отдадим своё первородство, отказавшись от ЦСЯ как от «близкого к русскому».
— Не мне судить о том, что конкретно сейчас происходит в Украине, но я постараюсь ответить с точки зрения, как вообще можно относиться к церковнославянскому языку, который связывает нас не только с историей Церкви, но и с древними текстами в целом. Потому что если кто-то знает церковнославянский, ему гораздо легче читать любые рукописи, ту же «Повесть временных лет».
Чтобы не зацикливаться на восточных славянах, возьмём сербский пример. В 1967 году Священный Собор епископов Сербской Православной Церкви официально разрешил использование современного сербского языка в литургических службах. На практике это выглядит так, что современный язык употребляется в прошениях, в ектениях и в чтениях, но не в песнопениях.
Лично мне кажется этот вариант идеальным. Таким образом, всё, что читается или провозглашается, людям более-менее понятно, а Минеи и ноты менять не надо. Да и скажем откровенно, все привыкли слышать «Иже херувимы», «Тебе поем» или «Достойно есть». Таким образом сохраняется живая связь с церковнославянским языком.
Я сейчас говорю как человек, который достаточно хорошо понимает церковнославянский, может на нём читать, составлять службы, но и мне, когда я слышу богослужение на церковнославянском, легче отвлечься мыслями куда-то в сторону. А когда слышишь богослужение на современном языке, которым владеешь, оно лучше проникает в сознание, не так легко от него мысленно отстраниться. И что, на мой взгляд, самое важное — ты начинаешь воспринимать службу по-настоящему, а не как благочестивый фон для собственных мыслей или собственного умиления.
Интересный в этом плане опыт есть у румын. Их язык не входит в группу славянских языков, он в группе романских. В Румынской Православной Церкви раньше использовали только церковнославянский, и им он как раз гораздо менее понятен, чем сербам или нам.
В Румынии переход с церковнославянского на румынский произошёл в XIX веке после объединения в 1859 году княжеств Молдавии и Валахии в единое государство. Правительство сразу же начало продвигать реформы в образовании и церковной жизни, и Румынская Православная Церковь включала больше разговорного языка в свои службы. Ключевыми стали королевские указы 1863 и 1864 года, которые ввели использование румынского языка в церковные службы, хотя церковнославянский по-прежнему оставался на особенно торжественных богослужениях.
К концу XIX века большинство приходов перешли на государственный язык. Это изменение соответствовало широкому националистическому движению того времени, когда особенно стремились продвигать румынскую культуру. К середине XX века румынский в значительной степени заменил церковнославянский в литургической практике Румынской Православной Церкви.
Вот такие два примера. Лично мне было бы жаль утратить церковнославянский как язык богослужения. Думаю, было бы неплохо, если бы всегда оставалось несколько полноценных вариантов: чтобы можно было пойти и на церковнославянскую службу, и туда, где служат на современном языке, и чтобы третий вариант ещё был — как у сербов, где и то, и другое.
Понимаю, что сейчас бушуют политические страсти, и мы к этому вернёмся в другом контексте, но всё-таки хочется, чтобы было на земле хоть какое-то место, где не всё на злобу дня и перекликается с тем, что происходит на улице, в новостях или даже на фронте. Должно быть какое-то пристанище, убежище, куда ты можешь прийти и попасть в атмосферу своего детства, юности. Церковь — это именно то пространство, которое невидимо связано и с прошлым, и с настоящим, и с вечностью.
До сих пор в Израиле есть ортодоксальные евреи, которые не чтят день памяти жертв Холокоста
— Получается, Румынское государство сказало Церкви, на каком языке молиться, и это не вызвало сопротивления. У нас в Украине сейчас на любые попытки хоть что-то навязать церковному сообществу идёт пропорциональное противодействие. Как вы думаете, может ли давление со стороны властей перерасти хоть во что-нибудь конструктивное? Были ли в истории примеры?
— Мне кажется, в данном случае интересен еврейский опыт и то, что случилось с литургическим упоминанием о Холокосте — убийстве евреев во время Второй мировой войны.
Когда стало ясно, что на территории Европы идёт не просто война, а происходит целеустремлённая попытка истребления еврейского народа, перед теми евреями, которые находились на территории Палестины, нынешнего Израиля, возник вопрос, как на это реагировать.
Были две точки зрения, принципиально разные. Ультраортодоксы говорили, что в литургическом смысле ничего особенного делать не надо. «Не первый раз снег на голову падает. Мы и раньше переживали трагедии. Нас пытались истреблять крестоносцы. Мы пережили погромы Богдана Хмельницкого. Уже есть установленная форма горевать и поминать не только тех, которые ушли, но и тех, кого сейчас прямо на глазах истребляют».
То есть существуют дни траура, связанный с ними пост, и больше дополнительно ничего делать не надо.
Когда позже образовалось светское государство Израиль, опять этот вопрос возник. Государство захотело увековечить память Холокоста. Логика была примерно такая: «Как показывает восстание, например, в Варшавском гетто, мы ведь не просто молча умирали, яко овча на закалание ведеся, но пытались себя как-то защитить». Для этого выбрали число, которое находится в том литургически счастливом месяце, когда, по иудейским верованиям, никакого поста и никакого плача не может быть в принципе.
Ультраортодоксальные евреи Израиля так этому возмутились, что принципиально не отмечают День Катастрофы. Государство их уже даже не трогает, каждая сторона понимает логику друг друга. Правительство как раз хотело, чтобы это стало сугубо светским поминанием. И больше всего не может простить ультраортодоксам, что они намекали, дескать, может быть, это в какой-то степени за грехи наши. Мол, как вы смеете говорить, что мы каким-то образом притянули такую трагедию на наши головы.
Я это к тому, что часто бывали случаи, когда государство пыталось играть в жизни религиозных общин какую-то роль. Может ли это привести к чему-то принципиально позитивному, сказать трудно.
В Соединённых Штатах Америки, где я выросла, существует разделение Церкви и государства, они действительно стоят на противоположных сторонах друг от друга. Однако такой опыт не присущ исторически православным странам.
С каких пор Крест стал воспеваться не как орудие спасения, а как символ победы над земными врагами
— Вы упомянули, что можете составлять церковные службы. Вам приходилось это делать?
— Один раз, да. В Йельском университете в прошлом году. Правда, служба на английском. Очень интересный опыт.
Я составила вечерню святой Горгонии, сестре святителя Григория Богослова, на основании его надгробного слова о ней. Некоторые высказывания там довольно радикальные, но я не хотела ничего выдумывать, брала буквально то, что у него написано.
Так, святитель Григорий говорит, что «ты, Горгония, пример не только женщинам, но и мужчинам». Да, это его слова. Или ещё был момент, когда она ехала в колеснице, лошади испугались и понесли. Она выпала, какое-то время они её протащили по дороге. У неё были очень сильные раны и ушибы, но из скромности она не захотела, чтобы её осматривал врач-мужчина, поэтому вошла в храм, когда там никого не было, громко возопила к Богу, взяла дары от жертвенника, себя ими помазала и чудесным образом исцелилась. Григорий это воспевает как похвальное дерзновение.
Написать службу достаточно просто. Я работала над другими службами с одним моим, ныне покойным, другом, монахом, который составлял многие службы на английском языке ранним западным святым.
— Как вы относитесь к идее (а в некоторых случаях и необходимости) пересмотреть некоторые богослужебные тексты — например те тропари, где без устали прославляется «российская земля»? Прихожанам, быть может, это не так заметно, но на клиросе очень сильно бросается в глаза чрезмерная любовь авторов некоторых гимнов к «российскому отечеству». В какие времена началось это прославление отечества? Разве в православных храмах в других странах есть столько акцентов на отечестве?
— Возьмём конкретный пример. Когда Петр I строил Петербург, состоялось торжественное перенесение мощей Александра Невского. В данном случае святому отводилась очень узкая государственная функция, и неудивительно, что служба ему писалась не «для вечности», а чтобы подчеркнуть, какой будет Петербург и каким новым проектом станет империя.
Можно поискать службу Александру Невскому, которая была до Петра (если такая была), и к ней вернуться. Православные люди, как правило, готовы переменить форму, если им показать, что что-то ещё раньше существовало, есть более древний вариант. Или, если Невский политизирован до крайности, пока опустить.
А вообще это всё началось после VII века. Как мы знаем, по словам Спасителя, мы должны прощать друг друга, отдавать ближнему последнюю рубашку, подставлять другую щёку и так далее. Те же великомученики Георгий Победоносец и Фёдор Стратилат почитались Церковью не за подвиги на войне, а потому что отказались сражаться или отказались поддерживать имперский культ.
Если это идеальный прототип христианского отношения к войне и насилию, то когда же христианство «сошло с рельсов»?
Случилось это в VII веке, во времена правления императора Ираклия, когда персы, славяне и арабы угрожали существованию Византийской империи и даже украли Честной Животворящий Крест.
В 629 году Крест был возвращён в Константинополь и тогда же составлена новая служба Воздвижению, где мы видим, как песнопения перешли от страдания и смерти Господа на Кресте за грехи людей к воспеванию Креста как… божественного оружия (!) против врагов империи, врагов нашего правителя. «Оружие мира», как сказано в кондаке, «непобедимую победу».
После этого, как говорится, «и понеслась».
Любое богослужение должно служить умягчению страстей, а не разжиганию
Возьмём требник Петра Могилы, замечательный молебный чин «Восследование молебнаго пения ко Господу Богу нашему за царя и за люди, певаемого во время брани против супостатов, находящих на ны». Некоторые прошения из ектений просто процитирую. Например: «Еже сокрꙋшити щитъ, ѡрꙋ́жїе, и брань всѣхъ борꙋщыхъсѧ съ нами, и подъ ноги Хрⷭ҇толюбивомꙋ воинствꙋ тѣхъ покорити, Гд҃ꙋ помолимсѧ».
Дальше больше. В самой первой ектении на литургии святителя Ионна Златоуста звучит: «Миром Господу помолимся. — Господи помилуй». В дореволюционных текстах после «о мире всего мира» и дальше по списку следуют прошения: «О благочестивейшем, самодержавнейшем великом государе нашем императоре Николае Александровиче всея России, о супруге его, благочестивейшей государыне, императрице Александре Федоровне, о матери его благочестивейшей государыне, императрице Марии Федоровне Господу помолимся. — Господи помилуй». И дальше — «О наследнике его, благоверном государе, цесаревиче и великом князе Георгии Александровиче (Алексея ещё не было. — Прим.Н.К.), и о всем царствующем доме, о всей палате и воинстве их Господу помолимся». «Пособити и покорити под нозе их всякого врага и супостата Господу помолимся».
То есть начали о мире всего мира, а дошли до того, чтобы «пособити и покорити под нозе их всякого врага и супостата».
Интересно и то, что в данном случае молитвы возносились не о стране, не об отечестве, не о народе, но о властях и воинстве. Неудивительно, что когда это при Петре I ввели, старообрядцев подобное новшество особенно оттолкнуло. Примечательно также, что когда Ленина спросили, кого из дома Романовых надо убить, он ответил, ничтоже сумняся: «Всю великую ектению».
И сейчас в РПЦ и УПЦ молятся «О богохранимой стране нашей, властях и воинстве». Иногда в УПЦ теперь вставляется «О богохранимой стране нашей Украинской» — чтобы подчеркнуть, о какой стране идёт речь. У сербов возносят прошения «За благоверни и христољубиви род наш и за све православне хришћане, да им Господ Бог помогне и да одоле сваком непријатељу и противнику». У румын тоже есть вариант «за правителей нашей страны, за мэров городов и сел, и за христолюбивое воинство». В диаспоре (ПЦА) — «О стране нашей, властях и воинстве»: “for this country/land, its civil authorities, and its armed forces, let us pray to the Lord”.
Так что теперь все православные молятся о земном отечестве. Нет ни одного православного народа, у которого не было бы молитвенных прошений «о стране нашей».
В Российской Православной Церкви это появилось главным образом после Петра, и самые яркие примеры, к сожалению, сохранились в обиходе. Но надо чётко понимать, что не «испокон веков так повелось», а конкретно в XVIII веке конкретный император по конкретным политическим причинам заказывал составление подобных богослужебных текстов. И, конечно, украинские епископы играли в этом огромную роль, потому что они и составляли многие из этих служб.
Так что, учитывая обстановку, в которой возникли тексты, и в каком положении православие в Украине находится сейчас, можно подумать трезво и какие-то выражения смягчить. Любое богослужение должно служить умягчению страстей, а не разжиганию их.
Кстати, есть украинский священник Юрий Петролюк. Он составил очень интересную службу на церковнославянском языке, которая называется «Собо́ръ святы́хъ Це́ркве Кíевскiя, и́хже па́мять твори́мъ въ недѣ́лю втору́ю по Пятидеся́тницѣ» из антологии «Слýжбы Собóромъ святы́хъ Цéркве Кíевскiя». Мне эта служба очень нравится. Там упоминается Киевская Церковь, там говорится об украинском народе, и только в одном месте есть тропарь, в котором упоминается некая «безумная» императрица, уничтожившая Запорожскую сечь, от рук которой пострадал праведный гетман Петро Калнышевский. Она и не упоминается даже, просто деликатный намёк, тоже похороненный где-то в седьмой песне. После некоторых песней в каноне не просто Богородичен, а конкретная украинская икона Божией Матери (Зимненская, Почаевская, Касперовская и прочие).
На мой взгляд, эта служба наиболее полно отражает нынешнее положение УПЦ. Святые упоминаются в ней сначала в духовном сане — епископы, монашествующие и праведники, лишь потом гетманы, казаки и миряне. Таким образом, мы видим, как варианты новых служб не навязываются извне, и при этом сохраняется многогласие и разнообразие.
Не все хотят, чтобы богослужение было злободневным
— В своей статье вы также пишете: «Клирики и иерархи УПЦ могут говорить по-украински и называть себя украинскими патриотами, но они не считают литургию главным местом для проявления этой преданности». А как обстоит дело в других Православных Церквях? Ведь, по сути, именно за это нежелание проявлять свой патриотизм в храме, нас часто и упрекают.
Например, приходилось часто слышать: почему вы не повесите на храме украинский флаг.
— Интересно, как появились американские и канадские флаги в православных храмах в диаспоре.
В Канаде с одной стороны на солее в церкви установлен канадский флаг, с другой — украинский. Раньше в США в церквях (теперь это почти не встречается) мог быть просто внутри американский флаг. Так повелось от первых поколений эмигрантов, которые в конце XIX — начале ХХ века переехали в Америку. И особенно после революции 1917 года.
Это был очень сложный момент. В Америке всех, кто так или иначе связан с Россией, подозревали в связях с коммунистами, и тогда выходцы из российской империи стали вывешивать в храмах американские флаги, чтобы подчеркнуть, что они настоящие американцы и никакие не коммунисты.
В Зарубежной Церкви этого нет. Лично меня всегда смущало, когда в других юрисдикциях с этим сталкивалась. Повторюсь, не все хотят, чтобы богослужение было зеркальным отражением злободневной тематики. В любой церковной службе — будь то панихида, молебен, и тем более Божественная литургия — ощущается какое-то динамическое напряжение между нами, здесь сейчас, и вечностью. И если перекос в современность слишком велик, есть риск утратить связь с тем, что было раньше, и что более важно — с вечностью. Но, конечно, вообще не обращать внимание на какое-то народное бедствие — это другая крайность.
Поскольку я оптимист, то во всём нахожу моменты утешения. Начнём с того, что богослужение может меняться в мирном направлении. После победы в Северной войне Пётр I не только приказал смягчить первоначальную агрессию в победной службе в честь Полтавской битвы, но приказал вообще составить новую службу, прославляющую мир и воспевающую, как хорошо, когда все живут в мире. Так что православные службы могут (хотя для них это и нетипично) отвергать борьбу и осуждение врагов.
Есть пример и со времён древней Руси — святые Борис и Глеб, которые были канонизированы именно потому, что наставляли князей не воевать друг с другом и сами встретили кончину без сопротивления. Служба им тоже была написана как бы на заказ, да и в целом прославление Бориса и Глеба призвано было подчеркнуть, что не должны правители так себя вести.
Но, пожалуй, самый актуальный пример приведу из поста архиепископа Ионы (Черепанова), который он опубликовал на своей странице в Facebook несколько лет назад.
В конце 20-х годов ХХ века, когда разгорались гонения на верующих, в служебнике в Ионинском монастыре в Киеве были вклеены следующие вставки. И это после десяти лет кровавых гонений с целью уничтожения Церкви, и гонениям этим не видно было конца! Почувствуйте, чем жили в то страшное время исповедники веры:
«О еже простити нам вся согрешения наша и милостивно избавити нас от обстояний врагов наших Господу помолимся.
О еже не воздати врагом нашим по делом их, ниже по лукавству начинаний их, но обратити их от злаго их предложения ко благотворению и любви Господу помолимся.
О еже не оставити ни единаго от них нас ради погибнути, но еже уклонитися от зла и творити благое благодатию Своею всех привлещи Господу помолимся.
О еже не оставити их нас ради погибнути, ниже нас тех ради, но всех к разуму истины привести и благодатию Своею спасти Господу помолимся».
На данный момент украинское православие предлагает интересный пример того, какие условия делают возможными литургические изменения. Изменения военного времени как в ПЦУ, так и в УПЦ убедительны, когда они верующими воспринимаются в рамках традиции и созвучны с другими элементами обрядовой системы. Когда то, что предлагается, звучит естественно, а не как фальш.
То есть пока что изменения, введённые обеими церквами, будь то осторожная украинизация УПЦ или евхаристические реформы ПЦУ, воспринимаются более-менее естественно. Дальнейшая эволюция будет зависеть от того, как и когда закончится война.
Что важнее — чтобы внуки могли говорить пару фраз на языке бабушки и дедушки, или чтобы они спасались?
— На чём делается акцент в богослужебных текстах Православной Церкви в Америке? Если составляется служба новым святым или местночтимым, что именно там берётся за основу?
— Начнём с того, что в США несколько православных юрисдикций, и все они составляют службы по-своему. Однако интересно, например, почему стали особенно прославлять святителя Германа Аляскинского.
Получилось так же, как с Ханукой — сам по себе это был маленький праздник. Однако на фоне того, как в Северной Америке отмечают Рождество Христово, евреи решили тоже устроить что-то грандиозное. Чтобы пока все вокруг празднуют, и у них были свечки и подарки.
Так и здесь. До того, как Православная Церковь Америки перешла на новый стиль, к этому вопросу отнеслись креативно и вспомнили, что есть же у нас свой великий святой. Более того, мы 25 декабря будем устраивать съезды молодёжи, чтобы молодёжь могла встречаться, что-то делать, всё равно у школьников и студентов рождественские каникулы.
На этой почве возникло большое почитание Германа Аляскинского. Я не шучу. В текстах служб ему, конечно, упоминается американская земля («первый святой американской земли»), но по большому счёту он о ней никакого представления не имел, поскольку тогда это не была американская земля, она стала ею впоследствии. В основном же прославляется его аскетический подвиг в новом месте, конкретно на Еловом острове (“Spruce Island”). Служба Рафаилу Бруклинскому упоминает американский контекст («по рождестве араб, питан струями греческого богословия, посвящен [в епископы] церковью Российскою»).
Ещё немного вернусь к вашему вопросу об уместности патриотизма в храме. Понимаете, это для первого поколения людей, которые родились в Российской империи, или в Украине, или в Греции, Македонии и приехали в Америку, важно помнить, что они карпаторосы, или греки, или македонцы. Их детям и внукам, с одной стороны, как бы важно знать, какие у них корни, с другой стороны, хочется просто переключиться на то, что есть сейчас.
Что, в конце концов, самое важное — чтобы внуки могли говорить пару фраз, несколько слов на языке дедушки и бабушки, или чтобы они спасались, оставались в церкви, жили по вере?
Я могу сказать с уверенностью — ни в Зарубежной Церкви, ни в Православной Церкви Америки, ни у сербов или антиохийцев в США не ставится акцент на Америку как страну богоспасаемую. Надо иметь в виду, что всё-таки Америка основана на принципе отделения Церкви от государства, и это очень чёткое разделение. В этом и есть наша идентичность. Хотя у ранних пуританцев было, конечно, это — что мы, «город на горе» (Город, который стоит на горе, не может укрыться от глаз. Вы — свет мира. Не может быть скрыт город, на вершине горы расположенный» (Матф. 5:14)), который всем несёт свет и пример всем народам.
Христос не на стороне тех, кто хочет сделать из своей страны нечто священное
— Вы приводили столько прошений из ектений. Да и сейчас, получается, в России молятся о победе над супостатом, мы тоже молимся о победе Украины в войне. Как человек верующий, как вы думаете, на чьей стороне Бог?
— Мне кажется, тут не надо быть глубоким богословом, достаточно элементарного знакомства с Евангелием, чтобы сказать, что Христос всегда на стороне слабых и угнетённых, а не на стороне гонителя и мучителя. Я напомню слова Пресвятой Богородицы: «Низложи сильные со престол и вознесе смиренныя».
Понятно, что была Византийская империя, и она имела своё искушение и свою логику. Но то была империя, подчеркну, а не нация. Потом сформировались нации, в XIX веке происходит прославление народа как такового, а не отечества. Если на это смотреть сугубо по-христиански, по-евангельски, это всё искушение. Это отвлекает людей от самого важного.
Так что, да, Христос не на стороне тех, кто хочет из своей страны, из своего народа сделать что-то священное. «Русь святая» — нет, I’m sorry, Русь не святая.
Мы все несём на себе раны нашего исторического опыта. Не надо ничего идеализировать, не надо говорить, как всё было хорошо. Всё-таки суть в том, что говорил Сам Спаситель.
Традиция — это не поклонение холодному камину, а сохранение пламени. Как сказал известный святитель: «Церковь присно юнеет». То, что мы имеем, — живое и творческое, и не надо рвать и метаться вокруг того, что было раньше и чего больше нет. И уж тем более не стоит восхвалять и оплакивать «наш холодный камин и его пепел».