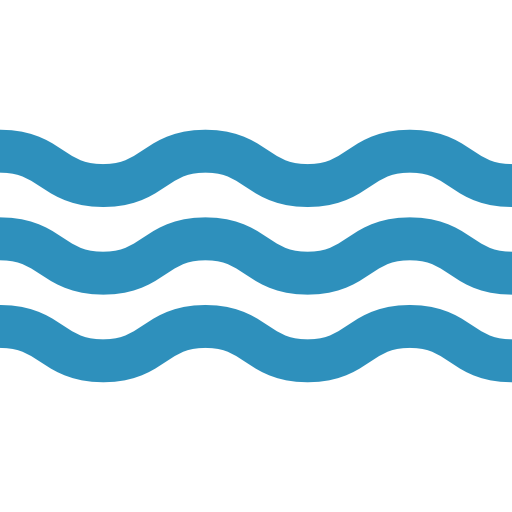«Владыка наш говорил: “Война делает добрых добрее, а злых злее”. Я просил его принять по мне отцовское решение. И он по-отцовски отправил меня за штат с запретом в священнослужении».
Мы не будем упоминать фамилию нашего собеседника, город, в котором он служит и из которого он вывозил своего раненого собрата, мужа родной сестры. Не будем упоминать епархию и область, где всё это происходило, — чтобы не свести обсуждение ситуации к оправдыванию действий какой-либо из участвующих сторон.
Мы просто хотим рассказать историю одного священника, который в 17-летнем возрасте принял решение всю жизнь посвятить Церкви, а свои 45 лет встречает без всякого понимания, как жить дальше.

Я понимал, чем эта помощь мне обернётся
— Сейчас моя профессия — «ноги отца Г.». Во-первых, ему раздробило кость и он только пытается опять начинать ходить. Во-вторых, из областной клинической больницы его выписали на амбулаторное лечение, потому что всё время поступают новые раненые. Как раз у него начались реабилитационные мероприятия, необходимо разрабатывать ногу — каждый день его надо привезти и отвезти. Вот этим и занимаюсь.
— Можете рассказать подробно, что произошло?
— 4 августа утром после Литургии он попал под обстрел. К тому времени его семья и моя уже жили в церковном доме у него на приходе в центре города. Я был настоятелем храма неподалёку, в городе-сателлите. В мае во время обстрела в 30 метрах от нас с детьми там упали две мины. Детвора моя так бежали от испуга — чуть ноги себе не переломали. И муж моей родной сестры, отец Г., первым принял решение переехать из нашего района в центр и жить на территории храма. Уговорил и меня.
Наш город находится на подконтрольной Украине территории. В 2014 году несколько месяцев он был в составе так называемого ОРДЛО, а на летнюю Казанскую (21 июля. — Прим. ред.) его освободили. Но вся наша жизнь с тех пор и до начала полномасштабного вторжения — на линии разграничения. От моего прихода до позиций ВСУ ровно 825 метров.
С 2015-го владыка благословил мне ещё два прихода, тоже на линии разграничения. Знаете, люди ко всему привыкают. У меня и воскресную школу на приходе разбомбило. Но когда весной этого года стало уже совсем рядом «прилетать», мы все вместе переехали жить в центр.
И вот, на Марии Магдалины, 4 августа, отец Г. отслужил службу и пошёл в воскресную школу здесь же, на церковном дворе. Уже когда заходил, начался артиллерийский обстрел. Первый же прилёт — снаряд перелетает через храм и попадает в стоящую рядом девятиэтажку. Батюшка только двери за собой закрыл, как летит второй снаряд — и прямо под купол, в луковицу под крестом. Осколки полетели не в стороны, а вниз, и прошили насквозь всё вокруг, и в том числе дверь в воскресную школу.
Милость Божия, что наш батюшка невысокого роста. Один осколок прошёл у него прямо над головой, а другой попал в левую ногу, раздробил кость. Я и моя семья находились в этом же здании, как раз детвора собиралась идти на улицу гулять…

Скорая приехала буквально сразу, но мы её не вызывали — Господь послал. Бригада возвращалась с вызова, а с другой стороны храма шла женщина-полицейский, и осколком снаряда её ранило прямо в сердце. Люди, видя скорую, позвали, мол, тут есть пострадавшие. Но женщина скончалась на месте, и получилось, что бригада скорой оказала помощь нашему батюшке.
Тогда же обстреляли и второй храм в нашем городе. Снаряд упал между церковью и остановкой. Почти все, кто был на остановке, полегли.
Слава Богу, матушка Мария, жена отца Г., моя родная сестра, правильно наложила ему жгут. Приехали медики, говорят ей: «Вы спасли ему ногу». Увезли его в больницу в соседний город.
Храм, где я был настоятелем, освящён во имя Пантелеимона Целителя, как раз приближался наш храмовый праздник 9 августа. И вдруг 9-го отца Г. переводят в Днепр. Сестра моя обратилась ко мне с просьбой вывезти их всех отсюда, чтобы можно было ухаживать за батюшкой. У неё трое деток — девочки 8 и 10 лет. Старшему сыну 14, она сама инвалид 2-й группы. Родственников, кроме меня, никого нет. И она попросила: так, мол, и так, нужна твоя помощь.
Я понимал, чем эта помощь мне обернётся. Мы с нашим владыкой ещё в мае беседовали на эту тему. Говорили о возможной эвакуации. Я ведь в розыске в ОРДЛО с 2016 года (мне инкриминируют сбор и передачу информации в пользу ВСУ). Милостью Божией, меня тогда друг спас — увидел у них на планшете моё фото, рассказал владыке. Меня тогда и с поста благочинного сняли — из-за того, что не могу теперь в епархиальный центр ездить, раз я там в розыске. И уже после начала полномашстабной войны я владыке говорю: «Если они сюда к нам прорвутся, я ж попаду “на подвал”». А он отвечает: «Если ты не виноват, они разберутся и ничего тебе не будет».
Не знаю, как мы с февраля эти месяцы держались — только с Божьей помощью. Всё-таки трое детей у меня, трое — у отца Г. Он всё время говорил: «Надо уезжать», искал у меня поддержки в этом. А я не мог. Владыка считает, что священник должен быть на месте, чтобы людям помогать. Так и жили, пока с батюшкой всё это не случилось.

Когда стало понятно, что он нуждается в моей помощи, я написал владыке письмо с просьбой отправить меня в отпуск или отправить за штат по семейным обстоятельствам, так как муж сестры тяжело ранен. Просил принять по мне отцовское решение. Но меня не только отправили за штат, но и «по-отцовски» запретили в священнослужении.
Об этом узнали прихожане, написали письмо нашему владыке, собрали подписи. Второе письмо написали Блаженнейшему в Киев. Я в митрополии ещё не был — не могу оставить батюшку, ему осколок перебил нерв, болевое ощущение у него постоянное. Он без меня пока что вообще никуда. Как начнёт ходить сам, наверное, буду ехать в Киев и просить решить мой вопрос.
Я писал ещё одно письмо владыке нашему с просьбой снять с меня запрет, потому что не служить для священника — это… Даже сложно словами передать.
Если я умру, меня всё равно будут отпевать как священника
— Что значит быть запрещённым в служении? Это похоже на увольнение?
— Я могу причащаться. Если я умру, меня всё равно будут отпевать как священника. Ведь священство — это на всю жизнь.
Крайняя форма наказания — лишение сана, а в моём случае это, скорее, разжалование. Священник, пусть даже за штатом или на пенсии, может и службу служить, и крестить, и хоронить. А я сейчас вообще не имею права ни таинства совершать, ни требы. Не знаю, почему была применена ко мне такая мера.
Владыке самому было тяжело, потому что таких, как я, уехавших священников у нас много. Один батюшка знакомый выехал, потому что у него брат военный. И чтобы на брата через него не могли воздействовать, он сам уехал и семью увёз. Попал под запрет. Другой священник просто пропал. Его тоже запретили. Но он на связь до сих пор не выходит. Жив ли? Вот и думай.
— Куда в итоге сейчас вам удалось выехать?
— Отца Г. перевели в Днепр, мы поехали туда. Там ему сделали операцию, поставили на ногу аппарат Илизарова, потому что кость раздроблена, а нога не может держаться только на мышцах и артерии.
Жили в здании воскресной школы, отец Тимофей нас приютил, спасибо ему. Думали снимать там жильё, а нам сказали: «Не ищите ничего. Днепр — перевалочная база, здесь раненым оказывают экстренную помощь и дальше распределяют по городам Украины».
Из Днепра отправили в Луцк. Тут в госпитале сделали несколько операций. Вот недавно ещё один осколок откололся от кости, но врач сказал, что новую операцию отец Г. физически не переживёт. Будем надеяться и молиться, чтобы осколок прирос на место.
Я на Западной Украине никогда не был, хотя супруга моя из Ивано-Франковской области. С нами в Чернигове учился отец Георгий из Тернопольской епархии — у меня хватило ума ему позвонить, Господь, наверное, положил на душу. Он с местным батюшкой созвонился, а тот дал номер отца Степана. Отец Степан радушно принял нас в своей воскресной школе. Здесь и живём.

— Как вас приняли на Волыни? Не ощущаете себя, как в другом государстве?
— Нет, наоборот. У меня жена из села, из которого Олекса Довбуш родом. Я тут даже проповедь говорил. По-украински всё понимаю, только сказать не могу. Хотя потихоньку осваиваю. Немножко тяжело в общении — подбирать эпитеты, отдельные слова.
Был случай, сестра садилась в автобус, ей сказали: «Ви, жіночко, обережніше з російською мовою». Но она поговорила с этим человеком, и он согласился, что неправ. Мне, наоборот, все говорят: «Не переживайте, мы понимаем по-русски».
— Вы давно в священном сане?
— В 17 лет меня рукоположили в дьяконы, ровно через 9 месяцев — в священники. С дьяконской хиротонии, 28 лет, я на одном приходе. Тогда там был настоятелем мой отец, 5 лет мы с ним служили вместе. В 1999-м отец умер. С того времени я настоятель.
Храм наш — один из старейших в регионе, 1911 года. Позавчера там опять обстрел был, но храм, слава Богу, цел.
По местным, волынским, меркам мой приход был огромный. А я всем пытаюсь объяснить: нельзя сравнивать Волынскую землю и восток Украины. Это очень разные регионы по менталитету. Волынская область вошла в состав СССР перед Великой Отечественной войной. А наш регион — с 1917 года.
Представьте себе 1988-й, год 1000-летия крещения Руси. На всю территорию областного центра — один храм! Рядом большой город — ни одного храма. В соседнем, где почти 300 тысяч жителей, — один храм. Вот в чём суть.
Я отцу Степану рассказываю: у вас на Преображение выходишь после службы — в воздухе повсюду запах шашлыков. Люди отмечают, у всех праздник. А у нас выходишь на Благовещение, и слышно звук бензопилы или циркулярки…
Народ у нас крещённый, но до церкви ещё не дошёл, не воцерковился. В моём городе до войны населения было несколько тысяч человек, а в храм из них ходили от силы 30-50.
— Отец ваш тоже всю жизнь там служил? Расскажите про свою семью, пожалуйста.
— Нет, он стал священником в начале 1970-х, до этого работал токарем на заводе. У него в жизни был тяжёлый момент, он очень болел. Его направили в Почаев, там он встретил монаха, который вычитки проводил, и тот сказал ему: «Ты сам будешь священником и людям будешь помогать исцеляться от того же». Мама моя — физик-ядерщик. Как только в нашем областном центре открылся первый университет, она туда поступила и его заканчивала.
Деток у нас с матушкой трое. Старший окончил музучилище и пошёл в семинарию, сейчас на втором курсе. Ещё два мальчика-двойняшки заканчивают 11-й класс.
На Пасху такой обстрел был, что небо хрустело
— Вы жили под оккупацией какое-то время — как это было?
— Жили несколько месяцев. Как было, лучше не спрашивайте! Тем местным «властям» не хватало только кожаной куртки и нагана, чтобы почувствовать себя в 1937-м. Они одному нашему батюшке прострелили машину — хорошо, что в ней детей не было. У него «газелька», и один ему на блокпосте показал, мол, проезжай, а с другой стороны подумали, что он не остановился, и начали стрелять.
— Некоторые говорят: «Ну и была бы другая власть, какая вам разница? Чего вы сопротивляетесь?»
— Мне так и сказал человек, который меня сдал и из-за которого меня в ОРДЛО разыскивают: «Ты — предатель родины». А я ему отвечаю: «Какой родины? Ты паспорт мой видел? Ты свой паспорт открой! Ты — гражданин Украины».
Это не просто «власть поменялась». Они сразу стали вести себя даже не как оккупанты, а как революционеры, пользуясь тем, что безнаказанно можно что-то отобрать, поступить с человеком, как хочешь.
— Простите за такой вопрос, но если идёт война, надо ли священнику оставаться под огнём? Почему другие люди могут выехать, а он должен непременно оставаться на месте?
— Есть священники, которые сознательно рискуют своей жизнью и идут в капелланы, если чувствуют в себе силы. Но, знаете, у нас на одном приходе батюшка семью вывез, а сам вернулся и сидит бухает. Это же тоже не выход. А выход должен быть.
Может, оставить один действующий храм на район. Потому что и люди под обстрелами на службы практически не ходят. Я три прихода окормлял: приезжаешь — там два человека пришли, в другом месте столько же. Один священник мог бы всех окормлять и причащать.
Один из моих приходов был в бывшем совхозе. Туда единственная дорога, 15 км, и вся в рытвинах и воронках. То хвост ракеты торчит. А со мной моя матушка-регент и мои сыновья-пономари. И ощущения, когда едешь по открытой местности в жестяной машинке, совсем не те, что в подвале или в помещении между стенами.
Мы на Пасху служили — я не знаю, как до храма доехал. Поле горит, а еду и плачу, не знаю, что сейчас будет. Такой обстрел был, что, кажется, небо хрустело.
На праздник княгини Ольги служил у себя, а через весь храм перелетали снаряды и ложились в этом же посёлке, рядом. Мальчикам моим, сыновьям, говорю: «Отойдите от окон», а сам отойти не могу — Литургия идёт. Ощущения, конечно, непередаваемые…
Должно быть по этому вопросу какое-то решение священноначалия. Меня отправили за штат с формулировкой: за самовольное оставление прихода. Хотя я заранее написал письмо, объяснил, почему еду. Отдал антиминсы благочинному, показал ему, что вещи свои не забираю с прихода. Всё осталось там.
Но меня никто не услышал. О чём говорить дальше, если я не могу напрямую позвонить своему правящему архиерею? У меня нет его номера телефона. Я спросил благочинного, он ответил: «На, звони с моего». Связи прямой нет, только электронная почта. Какая может быть коммуникация?
— Что планируете делать дальше?
— Владыка наш говорил, что война делает добрых добрее, а злых — злее. Буду писать ему. Если не ответит, поеду к Блаженнейшему. Есть же церковные институты — церковный суд, например. Должен быть механизм, как поступать в таких случаях.
За все годы служения ни одного выговора у меня не было, никаких взысканий. Я думал, чтобы священником быть, надо всю жизнь Богу посвятить. А теперь что? Может, и правда, надо было ещё какое-то образование получать… 28 лет пробыть в сане, чтобы тебя вот так потом вышвырнули… Мой сын старший, который в семинарии учится, теперь говорит: «Как я буду рукополагаться — чтобы и со мной потом так же поступили?»
— После войны вы хотели бы вернуться в свой регион?
— Хотел бы, конечно. На территории храма мои отец и мать похоронены. Но всё зависит от того, как с владыкой отношения сложатся.