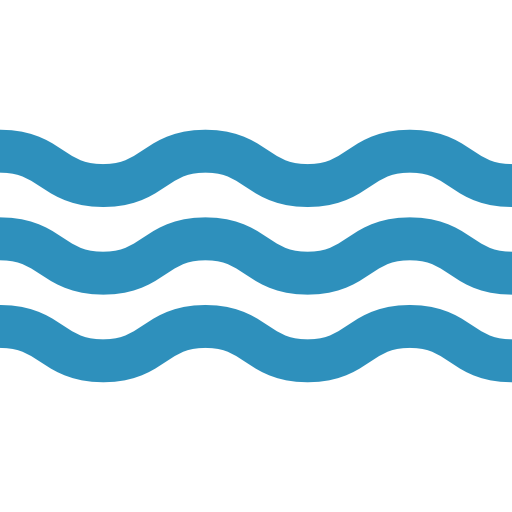Эта лекция прозвучала ровно два года назад. Но рецепты преодоления катастроф, предложенные в ней, тем более актуальны сейчас, в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией в Украине.
Выкладываем полную видеоверсию беседы с нашей текстовой расшифровкой некоторых ключевых моментов.
Что нам делать с этим цунами?
Вот такой вопрос, и с ним будем сегодня жить: куда мир движется, каково место Украины в мире и какова роль местных элит. Попробуем что-то с этим поделать.
<…>
Когда мы говорим о том, как там мир движется, откуда и куда, надо всё-таки определиться с координатами, понять, откуда мы историю начинаем. Будем широкими мазками идти.
Я собираюсь говорить о ХХ веке сначала, потому что мы все более-менее оттуда.
Для меня точкой осознанности были 90-е годы, когда я вдруг проснулся не физиком, а философом и угодил в определённое настроение, которое мы все помним и которое называется не очень удачно — постмодернизм.
Постараюсь немного обрисовать специфику времени, в котором мы оказались после 2000-х, как-то сопоставляя с тем, что было. Для этого мне нужно построить три точки. Назовём их: модерн, постмодерн и тот мир, в котором мы живём. Специально не будем его как-то называть пока что, потому что когда живёшь в какую-то эпоху, нельзя спешить её называть. Если назовёшь неудачно — что потом с этим делать?
Мне кажется, у нашего времени уже проявились какие-то черты — и драгоценные, и тревожащие, и трепетные. И чтобы их охарактеризовать, точку мы выберем более или менее метафизическую.
Представьте себе, что на нас идёт волна, или проблема, или цунами. Что нам делать с этим цунами? Я вижу три позиции.
Позиция первая. Отбежать подальше и с горы смотреть на то, что происходит — позиция дистанцирования. Когда идёт волна, прими дистанцию и будь холодным, аналитичным, смотри на то, что происходит, принимай решения.
Недостаток этой позиции в том, что мы избегаем трепета жизни, оказываемся в очень холодном положении далёкими, ненастоящими созерцателями.
Вторая позиция — позиция человека «глубокого». «Глубокие» люди, когда идёт волна, ложатся на дно. И снизу даже цунами выглядит просто как какие-то рисунки: наверху что-то плывёт, а у тебя тут всё внизу спокойно.
У этой позиции тоже есть большая трудность. Я однажды присутствовал при разговоре со старым профессором-мизантропом. Он прожил долгую жизнь, и у него о жизни были не особо оптимистичные представления. Как водится, он немного брюзжал по поводу необразованности студентов — это была его фирменная черта. И, как это часто бывает с подобными людьми, он это всё рассказывал человеку, к которому это всё не относится.
Девочка-отличница, очень умная, стояла и слушала, а он рассказывал ей про тёмную молодёжь, про поверхностность, про то, что никто ничего не знает, что потерялась глубина. В какой-то момент она ему говорит: «Профессор, я немного переживаю. Вы человек очень глубокий. Но есть проблема. Кажется, вы настолько глубоки, что наша поверхность для вас — уже недостижимая высота».
Вы только представьте, как красиво сказано…
И это проблема всех «глубоких» людей: для них поверхность жизни — недостижимая высота, а там, в своей глубине, они начинают задыхаться.
Вот такие есть две позиции, и мне кажется, что мы сейчас живём в такое время, когда стремительно уходим от обеих. «Глубокие» люди жили в начале ХХ века, потом их сменили люди, которые умеют «принимать дистанцию» — прятаться, скрываться, удаляться на расстояние, чтобы смотреть на то, что происходит.
Но позиция, которая меня привлекает и которая нам сегодня нужна, это, конечно, позиция сёрфинга. Когда на тебя идёт волна, неплохо бы научиться на ней кататься. Потому что если получится, вся энергия, которая на самом деле не твоя, будет твоей.
В общем-то, у нас больше не остаётся других возможностей. И я попробую привести здесь некоторые аргументы.
Что на самом деле является «клеем» для общества?
Вспомним начало ХХ века. Быстрая хаотизация всего. (На самом деле историки до сих пор не могут объяснить — что произошло, как началась Первая мировая война. Никакого общего представления об этом нет, только некая тайна взрыва насилия и хаотизации.) И в этом хаосе начинает казаться, что должны прийти люди, которые весь этот хаос соберут в некий проект-утопию.
Так рождается то, что называется «утопические энергии». Людьми эти энергии замечательно движут, и каждый герой культуры — это человек, который заходит с большой идеей, большой утопией, вокруг которой он собирает какие-то структуры, и за ним идут.
Проблема утопических энергий, как говорил Бердяев, в том, что, к сожалению, утопии имеют свойство осуществляться, хотя часто мы о них думаем, что они неосуществимы. И когда они начали энергично сбываться в первой половине ХХ века, стало понятно, что хаос, конечно, это не очень хорошо, но если люди берутся наводить порядок в этом хаосе с помощью утопических проектов, получается ещё хуже.
После Второй мировой войны уже было абсолютно ясно, что надо как-то по-другому решать вопрос. Появились люди, которые рассуждали примерно так: если в самой развитой части на земле, европейской цивилизации, возможен такой эксцесс, такой взрыв насилия, это не может быть просто случайностью. Мы должны приостановиться и думать о мире и жизни не так, что есть некое развитие, прогресс и большие идеи, а немножко по-другому. Надо спокойнее относиться к большим идеям.
Так появились постмодернисты, которые начали говорить, что быть модернистом — это не ошибочно, а это подло. После ГУЛАГа, Освенцима, Голодомора, Холокоста уже трудно поверить, что утопии — просто ошибки отдельных людей. Скорее всего, это что-то принципиально ошибочное. Сильная ошибка. И с этой ошибкой надо что-то делать.
В частности, если общество собирать вместе, желательно не спешить с предложениями утопических проектов. Что в таком случае является «клеем» для общества? Ответов было много.
Великий современный немецкий философ Юрген Ха́бермас придумал такую тему: общество может быть склеено не идеями, а построением мест рациональной публичной интенсивной коммуникации. Таких мест три — рынок, суд и сенат (парламент). Конечно, если эту идею мы обсуждаем в Украине, то улыбка неизбежна. Потому что все эти точки — действительно места интенсивной коммуникации, но не особенно рациональной. Однако в Германии что-то с этим получилось — по всей видимости, у них особый дар рациональной коммуникации.
То, что казалось Хабермасу всеобщим человеческим проектом, оказалось не совсем общим, но его мысль была проста: не надо больших идей, нужно место продуктивной сильной коммуникации. И если мы эти места организовываем, общество будет склеиваться, потому что все будут знать, что есть место, куда ты можешь прийти и говорить по каким-то правилам, чреватым положительным результатом.
Вот когда мы такие пространства устраиваем — собираемся, как сейчас, здесь под деревьями, — это что-то на эту тему.
Но оказалось, что этого недостаточно. Появился французский философ Лиотар, который заявил, что, знаете, рациональная коммуникация — это очень сложно. Если один человек хочет общаться, а второй в это время хочет свистеть, то никаких разумных идей, как их вместе усадить и заставить поговорить, нет. Тогда, может быть, мы примем мысль, что «клеем» является не готовность людей к переговорам, а странная вещь, которую он назвал «толерантностью».
Толерантность у нас обычно понимается в том смысле, что я должен полюбить то, что мне не нравится. На самом деле классическая тема толерантности — это когда ты не можешь полюбить то, что тебе не нравится, но ты точно знаешь, что если будешь с этим сражаться, то будет ещё хуже.
Примером толерантности являются не интеллектуальные дебаты, а определённые происшествия. Например, с какой скоростью люди едут на жёлтый свет. Они обычно или притормаживают, или сильно газуют. Если притормаживают, это толерантность, если газуют, то пока что не очень.
Во Франции существуют такие дорожные знаки — у нас таких пока что ещё нет. Возле больниц, например. Не запретительный и не разрешающий знак, а написано, что «стоянка терпима». То есть некоторая толерантность к стоянке. Там останавливаются люди, которые знают, что в принципе нельзя, но если чрезвычайные обстоятельства, то можно. Если у тебя кто-то умирает или рожает, то почему бы тебе здесь не остановиться. Проблема для нас, что если мы такие знаки введём, то, скорее всего, там будет всегда всё занято.
Эта идея существовала не особенно долго, но закончилось всё потрясающими вещами. Оказалось, что толерантность держится не на рациональных аргументах, а на доверии. Существует какой-то «клей» доверия, который берётся ниоткуда, тратится в невероятных количествах, и мы не знаем, как он производится. Общества даже с одинаковыми правовыми системами отличаются именно степенью доверия. И есть общества с высоким уровнем доверия людей друг ко другу, есть с низким уровнем доверия, и дело здесь явно не в аргументах, а, скорее, в общем пути, переживании опыта и так далее.
Кто герой ХХI века?
Если мы внутри этой истории движемся, то в ХХ веке появляются два типа супергероя.
Вначале это человек — создатель мира, конструктивист, автор утопий, который берётся осуществить проект, вписаться в какую-то большую идею. Такие герои существовали в первой половине ХХ века.
Им на смену приходят люди, которые к героизму относятся крайне иронически. Ирония становится их коньком, и они говорят: «А давайте без этого пафоса больших идей, просто попробуем быть терпимыми, человечными».
Постмодернистский герой — это человек, достоинство которого заключается в умножении реальности. Тогда как раз стали говорить, что свойство жизни — это разнообразие, и если ты внёс вклад в разнообразие, сделал что-то, чтобы жизнь стала ещё более разнообразней, чем до тебя, то это, скажем так, «высокий спортивный результат».
Интересно, что в ХХ веке эти герои казались антиподами друг другу. Пафосный героичный модернист, <…> который берётся мир преображать, и для него реальность — это пластилин, некий материал, из которого можно что-то строить, лепить, красить, проектировать. И человек эпохи постмодерна, который говорит: «Нет-нет-нет, я ухожу в сторону, давайте без меня осуществляйте свои утопии» и дистанцируется. <…>
На самом деле оказывается, что эти как будто бы антиподы занимают одну и ту же позицию по отношению к реальности: и для одного, и для другого она некий материал. Для модерниста — что-то пассивное, из чего я строю; для постмодерниста — почти иллюзия. Но для обоих характерно думать, «что я могу с этим миром делать всё что угодно».
И вдруг в 80-е годы ХХ века позиция начинает меняться. В Германии появляется великий социолог Ульрих Бек, который пишет книжку «Общество риска», где говорит, что совсем скоро наступят времена, когда людей будут объединять не идеи, не развитые коммуникации, а риски. Люди будут объединяться по поводу катастроф, которые вламываются в их жизнь и на которые нужно как-то реагировать.
Когда он это написал, то казался алармистом. Никто его особо не слушал, однако реальность поправила его критиков. Случился Чернобыль, и все поняли, что, и правда, есть огромные социальные, экономические, политические процессы, которые запускаются в ход катастрофами.
Бек начал говорить о том, что современные общества объединены оптимизацией рисков и главной для них является тема безопасности. Политик больше не приходит с конструктивной утопией или с идеей всех помирить. Его задача — сделать нашу жизнь немножечко более безопасной и защищённой.
Буквально сразу становится очевидным, что мы как-то переусердствовали с восприятием реальности как чего-то пассивного. Реальность, вообще-то, активная штука и приходит в нашу жизнь, как цунами.
Вообще, если присмотреться, все прекрасные вещи в нашей жизни устроены как вторжение. Любовь устроена как вторжение. И дружба тоже. Когда ты выстраиваешь свой мир, и вдруг происходит встреча с чем-то иным, что вторгается в твою жизнь, заставляет приостанавливаться, смотреть на это, замолкать, и с этой точки начинается какой-то твой человеческий рост.
В начале 2000-х появилась книга, которая меня сильно изменила. Ханс Ульрих Гумбрехт — немецкий филолог, который уехал в Америку и стал антропологом — написал книгу «Производство присутствия». Название у неё не очень ясное, но именно в ней он начал говорить о том, что не мы производим цивилизацию, а сам мир вторгается и осуществляет воздействие, которое перестраивает всё в нашей жизни. И мы больше не можем мыслить о себе как люди, активно что-то меняющие.
Только представьте, качество моей жизни определяется тем, насколько я замечаю или не замечаю вторжение. И тогда вторжение — это не только деструкция, но тот самый сёрфинг, с которого мы начали. То есть я могу воспринимать это как катастрофу и плакать, а могу попробовать этой энергией воспользоваться, научиться как-то с ней взаимодействовать.
Так главным героем нашей культуры становится не пафосный человек — автор утопии, не иронист, смотрящий на всё со снисходительной улыбкой, а некто третий. А именно — свидетель, который рассказывает, что с ним произошло.
Свидетели, они же рассказчики, — это очень интересные люди. И их становится всё больше и больше. <…>
Может быть, вы заметили, что сейчас почти ничего нельзя делать, не рассказывая истории. Это не потому, что всё превращается в шоу, а потому, что мы оказались в ситуации, когда мы точно знаем, что самая большая энергия в жизни приходит не от нас самих. Не мы что-то изобретаем. Вернее, конечно, мы что-то изобретаем, но это ничто по сравнению с тем, что делает с нашей жизнью всякого рода вторжение.
Вторжения бывают двух видов. Катастрофа. И к этому люди в 90-е годы как-то приготовились.
Но меня интересует второй вид — вторжение, которое помогает нам открыть настоящую жизнь. Я такого вида вторжения называю очень привычным словом, ничего не поделаешь — красота.
Обычно люди под красотой имею в виду гармонию, грацию, симметрию, асимметрию, какие-то пропорции. Но у греков слово «красота» — καλλονή (каллон) — это что-то однокоренное к κλήση — вызов. То есть для них красота — это имя вызова, от которого не хочется защищаться. От катастрофы я собираюсь построить стены, фильтры, систему защиты, безопасности, страховку; я хочу от нее застраховаться. От красоты, хотя я понимаю, что это своего рода вторжение, мне не хочется защищаться, но хочется на него отвечать.
Появляется новое представление об ответственности. Современный ответственный человек — это тот, кто встретил некую красоту, от которой он не хочет защищаться. Ответственность — как ответность, как моя способность держать ответ.
Очень интересно, как современный человек предаёт красоту…
***
Не поверите, но это только 20-я минута разговора.
Впереди — рассказ о том, как люди предают красоту.
Как в ХХ веке произошла катастрофа расчеловечивания и что сейчас с этим делать.
И самое главное — как можно ответить на любую катастрофу в твоей жизни так, чтобы это стало для тебя обретением новой, настоящей, подлинной жизни, а не бегством от реальности.
Посмотрите этот выпуск обязательно: